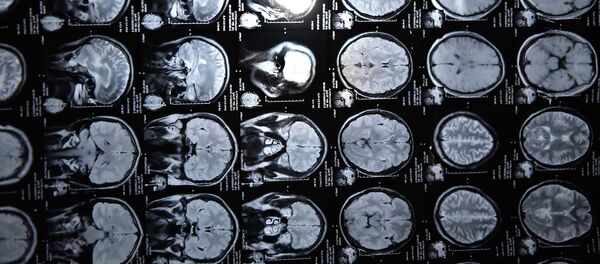Бишкекчанка Динара Аляева еще пару лет назад была обычной мамой с хорошей работой и зарплатой. Дневник незнакомой женщины разделил ее жизнь на две части: теперь она организовала фонд, помогающий детям, больным раком, и хоспис — место, где берегут жизнь безнадежных пациентов.
— У вас никогда не возникал вопрос: почему я? Почему именно вы должны посвящать свою жизнь спасению не известных вам детей, бороться с системой, оплакивать малышей вместе с их родителями?
— Раньше я жила для себя. А потом стала мамой. И сразу многое стало ясно. Я обнимала своего ребенка и думала: а кто обнимет малыша из детдома? Мой ребенок ночью просит есть, а кто накормит тех детей?
— Но вы же понимали, что не можете помочь всем. И голодный ребенок из детдома — часть нашей ужасной реальности. Поможете одному, останется еще тысяча…
— Да, я знаю. Цель спасти не стоит. Есть цель помочь. Полтора года назад я в Интернете увидела пост одной матери. Она с ребенком находилась в Казахстане. Ее звали Ботагоз, и она вела дневник болезни своего сына. У Адиля Сарбаева был рак.
Я впервые узнала, что стоит за словом "рак", что такое химиотерапия и как она действует на организм. Что выпадают волосы, что у детей начинается кровавый стоматит, что ребенка рвет. Я ужаснулась. Детям делают пункции (забор биологического материала через иглу. — Прим. ред.), и она делилась тем, насколько это больно.
И я решила помочь, как и многие. Мы организовали концерт, собрали около тысячи долларов. Потом я нашла информацию о немецком фонде, который помог Адилю и выделил 10 тысяч евро. Сейчас Адиль в ремиссии, но все так же находится под наблюдением докторов и ездит с родителями в Южную Корею для продолжения лечения.
— Вы потратили столько времени и сил на совершенно незнакомого малыша. Никто бы вас не осудил, если бы вы на этом остановились.
— После помощи Адилю я собрала на работе и выпросила у руководства то, что у нас было списано: компьютеры, обогреватели, микроволновку, и поехала в детское отделение онкологии.
Тогда я там оказалась впервые. Ужаснулась. Вы видели по телевизору, в каких условиях находятся дети, больные раком, в других странах? Там стерильные боксы и все такое, а у нас в одной крошечной палате находится по 20 человек — детей, родителей. Протекающие туалеты, вонь, грибок на стенах…
— О том, как вы боролись с бывшей заведующей отделением детской онкологии, известно всей стране: многочисленные разборки, взаимные обвинения. И все-таки откуда вы брали силы идти до конца?
— В отделении была девочка. Ее звали Лейла, и у нее сломался компьютер. Там детки сутками получают всякие капельницы. Для них компьютеры и планшеты — спасение. А я тогда еще не возила лично детям подарки. Мама маленькой Лейлы не верила, что я достану малышке компьютер, но все же, смущаясь, попросила меня об этом. А Лейла, наверное, чувствовала, что все-таки смогу. Откликнулась моя подруга, и я принесла ребенку нетбук.
Я пошла на похороны Лейлы, там были родители и других умерших детей. Злость, которая родилась тогда, дала мне силы выстоять, хотя это все, конечно, нелегко. Дома у меня были непростые разговоры и с мужем, и с мамой.
— У нас к людям, которые занимаются действительно хорошими делами, относятся настороженно. Наверное, и вы с этим сталкивались.
— Меня часто обвиняют в пиаре. Мне эти обвинения непонятны и смешны. Работая с фотоархивом фонда, я вижу фотографии детей. Почти всех уже нет в живых… Я пытаюсь найти слова для их родителей, когда они звонят и хотят поговорить о своих детях.
Смерть ребенка — это не смерть престарелых родителей, это невероятно тяжелая утрата для любой мамы и любого папы. Для всех, кто знал его. И такие раны не заживают быстро. А я для них человек, который видел и помнил их ребенка. Часто они хотят просто поплакать вместе, просто помолчать. Никто бы не вынес такой ноши ради дешевого пиара.
— А что с деньгами? Вспоминается случай, когда вы стали конфликтовать с одним бишкекским модельным агентством из-за того, что оно якобы не хотело отдавать собранные деньги.
— Этот конфликт произошел на пустом месте. Масштаб ему придали социальные сети и эмоциональность участников. Просто мне позвонили из отделения и сказали, что нужны лекарства. Так как акция модельного агентства широко освещалась и оно объявило, что собирает средства для онкобольных детей, я сразу связалась с ним.
Многие потом говорили, что я запятнала свое имя скандалом. Но я абсолютно не боюсь этого, потому что в моих действиях нет ни корысти, ни пиара. Я просто всегда ищу справедливость и борюсь за нее.
— Наверное, не все в это верят. Не обидно, когда вас просят отчитываться по чекам?
— Раньше, когда меня просили показать квитанцию или отчитаться, меня это обижало. Казалось, люди априори должны знать, сколько хорошего делается, ведь я больше года работала волонтером в своем фонде.
Потом поняла, что это правильно. Каждый человек, давший 50 сомов или 50 тысяч, имеет право знать, куда пойдут деньги. И теперь это философия нашего фонда: все знают, на что пошли финансы. Мы открыто извещаем в нашей группе в социальных сетях о каждом взносе и расходах.
Сначала я работала без зарплаты. Ушла с прежней работы, чтобы все время посвящать фонду. Со мной трудились другие волонтеры, но потом мы поняли, что так продолжаться не может. Все хорошее, что делается и сделано, может остановиться в любой момент из-за банальной причины — отсутствия зарплаты. Сейчас у нас три человека в штате — я, мой помощник и бухгалтер.
Мы платим налоги, наша зарплата составляет 6 тысяч сомов в месяц. У нас нет возможности снимать офис, пока мы размещаемся в моей квартире.
Если я остановлюсь, то предам детей. Даже доктора в отделении говорят, что боятся, как бы я все не бросила… Как я могу подвести их? Значит, это мой путь, моя миссия.
— Каким образом вы пришли к открытию хосписа? Зачем взяли на себя функцию государства —построить учреждение для детей, которым осталось жить совсем мало?
— Бывают дети с четвертой стадией рака, другими неизлечимыми болезнями. Часто их выписывают, чтобы не портить статистику. Это тяжело не только для взрослых, которые понимают, что такое жизнь и смерть, но и для детей. Ребенок в три-четыре года понимает, что такое смерть. Прекрасно это понимает, потому что видит каждый день, как умирают соседи по палате…
Государству такие больные неинтересны. Я пыталась привлечь внимание Минздрава, мэрии, но полгода были потрачены впустую. Я писала письма, делала запросы чиновникам. Даже премьер-министру писала. Он не ответил. А мэр Бишкека даже не знает, что такое хоспис. Ему это непростительно. Никто из Минздрава не пришел на открытие заведения.
И то, что мы открыли хоспис, — плевок в лицо всем чиновникам, которые могли помочь, но не сделали этого.
— А каково это — остаться с умирающим ребенком наедине и ждать, когда он умрет?
В Европе знания о паллиативной помощи (облегчение страданий умирающих. — прим.ред.) дают с детского сада. Люди не боятся говорить о смерти, ведь это логическое завершение жизни. А основа такой помощи — улучшение качества жизни тех, кому не суждено жить долго. И это иногда касается детей.
Это в любом случае тяжелое бремя. Но его можно хоть немного облегчить благодаря паллиативной помощи. В США есть психологи, которые работают на облегчение страданий мам и пап смертельно больных детей. У нас, к сожалению, пока не готовят таких специалистов.
— А есть ли то, чего вы боитесь больше всего?
— Да. Что однажды люди, которые сейчас помогают больным детям, перестанут это делать. Для меня это самое страшное.